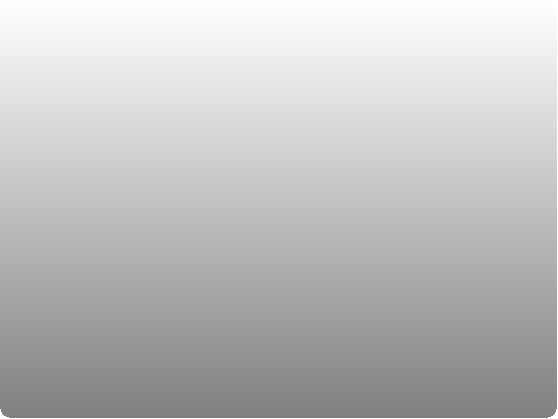З. Абдуллаева. Нет, через двадцать лет спектакль нельзя пересмотреть, его уже нет или нет того, который был вначале, а фильм, фото, картины, объекты, инсталляции можно.
А. Васильев. Да, спектакль нельзя. Удивительная вещь. Современная техника заменила интуицию. Она все делает безошибочно. Всякое искусство есть акт креации. Итак. Бог создал мир актом креации. И оставил в нем пустоты, которые заполняются актом человеческой креации. Нам изначально дана возможность креативности. Плоды нашей креативности помещаются в пустотах и заполняют их. Заполнение этих пустот говорит не только о качествах нашей креации, но и о сущностях акта креации. Поэтому многие явления креации не задерживаются в этих пустотах. Они, как снег, который выпадает зимой, оттаивают весной. Только некоторые креации помещаются в этих гнездах. Я никогда не понимал это иначе. Нам оставлена структурированная сфера, бесконечная в своей креативной способности. Внутри этой сферы есть эти соты. Божественное творение приняло эти креации в такие соты и поместило их там навсегда. Для меня это очень ясно. Возможно и такое сравнение. «Запечатлеть» — это написать пьесу. «Напечатать фотографию» — это поставить спектакль. Оператор работает дважды. Когда снимает и когда печатает копию. Оператор — это проводник. Он реальность реального переводит в иллюзию иллюзорного. Только он. Не объектив. Я много времени проводил за печатным столом. Жизнь моя очень просто устроена. Каждый год я приезжал к маме, туда, где жил в детстве, доставал аппаратуру, закупал химию и все ночи на протяжении лета печатал. Удивительнейшее состояние, когда вся квартира затихает, засыпает. И только малый свет из объектива падает на лист белой бумаги, который ты подставил, чтобы увидеть изображение. Чтобы в этой маленькой комнатке прочитать мир через негатив. Нельзя читать через позитив, ведь его нет. Он весь вывернут, как во сне. Но неузнаваем. Это мир наоборот. И ты начинаешь читать эти надписи в негативе как волшебную книгу. Негатив есть некая метафизическая сущность. Не данная природой сущность. Она спрятана за бело-черным изображением. Все дело в том, что ты вперяешься в иероглиф, за которым спрятано слово. А смысл скрыт. Но иероглиф — открыт. Неправильно думать, что вся работа заключается в подсчете экспозиции. В конце концов все определяется тремя-четырьмя, десятью секундами. Работа чисто механическая. Назовем того, кто снимает, художником. Но если печатает тот же, кто снимал, кто управлял затвором, а теперь управляет объективом фотоувеличителя, то он, когда-то увидевший мир, теперь закодированный иероглифом, читает его глазами сна. Внутренними очами. Сильнейшее вдохновение ты испытываешь именно в тот момент, когда прочитываешь. Это большее наслаждение, чем когда щелкаешь. Щелкнуть — еще полдела. Проходит время… Ты долго рассматриваешь иероглиф, привыкаешь к нему… Только потом включаешь свет и накрываешь бумагу изображением, спрятанным в свете. Наступает второй процесс креации, и рождаются отпечатки. Этот творческий акт можно уподобить стихотворению, которое вспыхивает мгновенно. Дальше надо написать. Стихотворение вспыхнуло и запечатлено на негативе памяти. Вторая часть этого акта — собственно, запись. Или — отпечатки. Фотография как бы воскресает. Свет, взятый в конус глаза, умирает на пленке. Эту смерть называют негативом. Второй акт действия — воскрешение умершего.
З. Абдуллаева. Как эти действия связаны с тиражированием?
А. Васильев. Равнодушная природа уловлена на пленке. Ей должна быть дана жизнь. В каких формах? В формах стереотипа или… То, что замерло на пленке, может воскреснуть живым или стереотипичным. Одно и то же изображение, а финал — разный. Стереотипы и архетипы — это одно и то же?
З. Абдуллаева. Нет.
А. Васильев. Тиражируются только стереотипы.
З. Абдуллаева. В классической работе Вальтера Беньямина «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости» давно показано, что тиражирование лишает произведение ауры, присущей искусству нетиражному, уникальному.
А. Васильев. На примере искусства фотографии легко наблюдать мутацию архетипического в стереотипическое. Ведь мы уже говорили о пределе. Итак, пример очень простой. Импрессионистов печатают на майках. Язык живописи присвоен, то есть сначала отторгнут, затем присвоен, затем прожил период превращения, мутацию стереотипического и растиражирован… События, которые происходят на сцене, в театре, каждый раз новые, хотя они одни и те же. События, зафиксированные на мертвой пленке, всякий раз совершаются не на этой пленке, а в душе воспринимающего. Если с этим согласиться, тогда события на пленке всегда будут происходить, как впервые. Хотя они растиражированы в копиях. Стереотип — это выработанный язык. Он имеет свой словарь, грамматику, и благодаря этому языку люди начинают воспринимать. Устанавливается согласие. Произведение силою самого акта креации научает себя читать. Как мать научает ребенка говорить на ее языке. Точно так же устанавливается единый язык между произведением и воспринимающим. Мы говорим «культурная эпоха». Ей свойственны такой уклад, такой язык, такая религия, архитектура и т.д. А дальше вырабатывается не только речь, но и знаковость речи. Не только через речь, но и через ее символику возникает контакт между действующим и воспринимающим. Язык, обеспечивающий такую согласованность, становится стереотипическим. И обязательно рождает стереотипы. Стереотипы — это некоторые модули, созданные из нескольких знаков. Мы должны пройти языком стереотипов, а можем по этому пути и не пойти. На искусстве фотографии это видно наиболее ясно. Подобно тому как у греков тиражировалась скульптура, так потом тиражируется фотография. В газетах, рекламе, телевидении, кино и т.д. и т.д. Если фотография — искусство, то все искусства похожи. Из одного и того же творческого начала может быть порождено подобие и сущность. То начало, которое зафиксировало себя на негативе, может проявиться в языке стереотипов — в подобии. Или — в неизведанном языке самой сущности. «Простите, — скажет кто-то, — все зависит от того, как вы сняли. У вас же все есть. У вас нет ничего, кроме того, что вы сняли».
З. Абдуллаева. Но это не так.
А. Васильев. Не так. Итак. Как мне знать, что я снял, если оно умерло в негативе? Я знаю только то, что выбрал мой глаз вместе с глазом объектива. Но как представить, что там оказалось? Я говорю о том, что делается руками, а не о технике, которая теперь может все. Но если даже знать, что именно запечатлелось, оно может превратиться и в одно, и в другое. В архетипическое и в стереотипическое. Как это знать? Я знаю, что выставил себя против цивилизованного театра. И точно так же — против цивилизованной машины, механизма, камеры. Человек не так дурен. Он ухищряется. Он берет машину, которая может снимать без него, но этого ему недостаточно. Он всегда ищет возможность проявить себя человеком творящим. Не сравнимо ли это с другим процессом: автор написал текст, театр разыграл этот текст на сцене? Или скажем более грамотно. Автор сочинил текст. Назовем эту реальность литературной. Театр дал жизнь этому тексту на сцене. Назовем эту реальность сценической. Но до литературной и сценической реальности была реальность реальная.